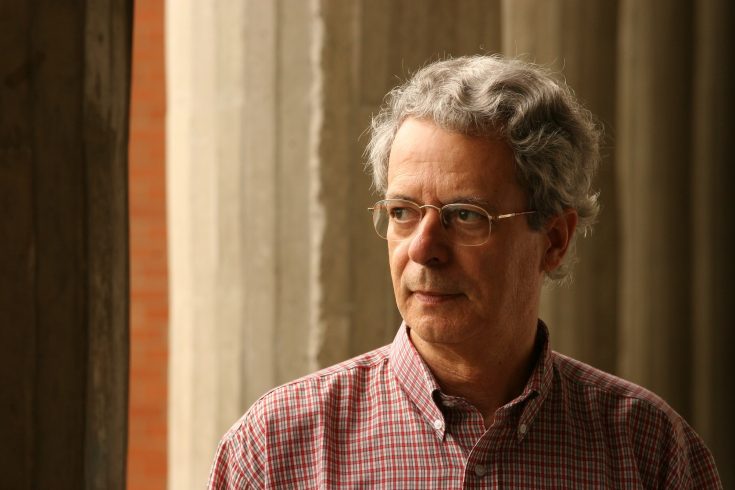
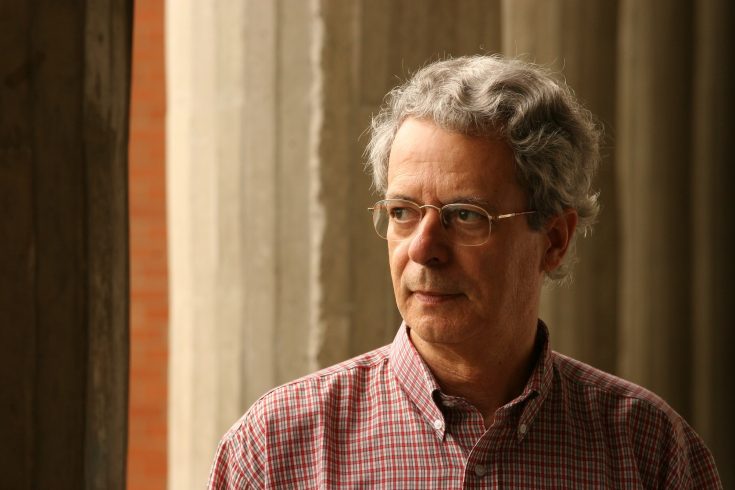 |
Благодаря техническому прогрессу в сфере коммуникаций факс, отправленный по каналу спутниковой связи из Сан-Паулу в Нью-Йорк, дойдет быстрее, чем будет доставлено с помощью автомобиля письмо из одного района Сан-Паулу в другой.
«Мир, мир, необъятный мир…» поэта трансформировался в небольшую деревню. В XIX веке письмо папы Льва XIII – энциклика «Rerum Novarum» – задержалось на четыре года, прежде чем было доставлено из Рима в Мексику. В XXI веке около шести миллиардов жителей планеты Земля[1] будут находиться так близко друг от друга, что человеку, желающему остаться одному, будет нелегко это сделать, если только он не оставит в стороне свои мультимедийные часы, способные действовать также как радио, миниатюрный CD-плеер, телевизор, мобильный телефон и ежедневник.
До конца XX века в мире существовали различные конфликтовавшие между собой экономические системы, среди которых выделялись капитализм и социализм[2]. С исчезновением социализма в странах Восточной Европы неолиберализм – современная форма капитализма – стал преобладать на планете, преодолевая национальные границы. Происходит глобализация экономики. Экономически самодостаточные государства начинают уходить в прошлое. Влияние – и власть – президентов «Сити-банка» или «Хонды» становятся больше, чем президентов или премьер-министров многих стран. Управленцы в сфере экономики сосредоточивают в своих руках больше власти, чем политики в парламенте или в исполнительных структурах.
«– Как твое путешествие в Токио во время отпуска? – спрашивает Марианна у Тамико.
– Я посетила родственников отца. Но что занятно: сэндвичи в «Макдоналдсах» Токио точно такие же на вид и на вкус, что и сэндвичи, которыми кормят в «Макдоналдсах» Сан-Паулу».
В первой половине XX века капитализм был заинтересован в укреплении государства, которое вскармливало крупные корпорации финансовыми вливаниями, налоговыми льготами и законодательными привилегиями. Сейчас транснациональные корпорации, контролирующие экономику планеты, настаивают на приватизации государственных предприятий. То есть они хотят ослабить государство и усилить рынок: меньше законов, больше разнузданной конкуренции. Почта, социальное страхование, сети больниц и школ – все должно быть приватизировано, даже пляжи, улицы и полицейский аппарат – взгляни вокруг и увидишь все больше решеток и пропускных пунктов на улицах, все больше частных охранных предприятий.
При неолиберализме государство имеет тенденцию остаться только регулятором юридических контрактов и аппаратом подавления недовольных, исключенных, которые оплачивают своей жизнью счета тех, кто живет на островках изобилия. Так, экономика и политика все меньше определяются внутри государств и все больше внутри МВФ, Всемирного банка, штаб-квартиры IBM или «Дженерал моторс».
«– Вчера моя мама порезала ногу об осколок стекла, – говорит Уала. – Сосед на машине отвез ее в больницу, но там не захотели ее лечить, потому что у нее не было денег ни на то, чтобы открыть счет, ни на оплату медицинской страховки.
– И как же ей была оказана помощь? – хочет знать Тео.
– Мы отвезли ее в муниципальную больницу. Надо было выстоять длинную очередь, но по крайней мере нам не пришлось платить деньги за помощь».
Либеральный капитализм говорил о «национальном развитии» и демонстрировал обеспокоенность, когда росли безработица и маргинализация. Сегодня неолиберализм уже не заинтересован в вовлечении всех в рынок, он заинтересован в исключении. Короче говоря, безработица является для системы не проблемой, но лишь признаком того, что развитие субподряда и технологический прогресс – создающий машины, которым надо все меньше человеческих усилий, скажем сборщика на конвейере – сокращают число рабочих рук. Система заинтересована не в увеличении количества потребителей на рынке, но в том, чтобы у того же числа потребителей было больше денег.
«– Марианна, разве вчера ты приезжала в школу не на другой машине? – спросил Тео, увидев подругу выходящей из сверкающего автомобиля.
– Да, эту японскую машину папа только что купил.
– Сколько же машин у тебя дома?
– Пять: микроавтобус для сельского имения, папин автомобиль, мамин, моей старшей сестры и фургон для прислуги».
Раньше задачей капитализма было производить для всех классов общества. Было много дешевых автомобилей, доступных небогатой части «среднего класса». Сейчас неолиберализм производит только для 40 миллионов бразильцев из 155 миллионов, имеющих доступ на потребительский рынок. Достаточно сказать, что половина этих привилегированных сконцентрировала в своих руках более 50% национального дохода. Поэтому растет производство ненужных товаров, предлагаемых так, будто они являются товарами первой необходимости.
«– Тео, где ты достал такие модные кроссовки? – воскликнула Тамико, увидев друга, шагающего как какой-нибудь военный.
– Купил на шопинге в выходные, – говорит Тео. – Посмотри: кроме светящихся элементов на подошве, установлена система охлаждения по бокам, амортизаторы на пятках, эластичные шнурки и система антискольжения.
– Ага, – веселится Тамико, – не хватает только сервис-центра с обслуживающим персоналом…»
Для неолиберализма имеет значение не прогресс, а рынок; не производство, а спекуляции; не качество продукта, а его рекламный успех; не потребительная стоимость товара, а тот фетиш, которым он обладает. Товар покупается за ту ауру, которая его окружает и кажется способной повысить статус его обладателя. Так, уже не считается человеком тот, кто видит ценность товара в его прямом предназначении, например, чтобы использовать ткань как рубашку; наоборот – этикетка рубашки «маркирует» своего обладателя так же, как роскошный автомобиль служит платформой для социального вознесения своего владельца. Человека начинают воспринимать по украшающим его вещам.
С неолиберальной точки зрения человек как таковой, видимо, не представляет никакой ценности. Поэтому тот, кто не владеет материальными благами, обесценен и исключен. Кто владеет – завиден, обхаживаем и отмечен вниманием.
«– Puchicas[3], Тамико, твоя кофточка – супер! – хвалит Марианна. – Это Пако Рабанн?
– Нет, это от моего французского модельера … моей мамы».
Прежде система оценивала труд как фактор, придающий человеку достоинство, обеспечивающий благополучие. Теперь правильным считается зарабатывать деньги на спекуляциях, жить на ренту, наслаждаться жизнью не трудясь. Для СМИ самые счастливые – это самые праздные. И в промышленности прогресс в области информатики и автоматизации делает человеческий труд ненужным, порождая безработицу. Достаточно сказать, что на заводах «Фольксваген» в Сан-Бернарду-ду-Кампу (Бразилия) в 1980 году производилось около 1000 машин в день и было занято 44 тысячи рабочих. Сегодня производится около 1500 автомобилей всего 25 тысячами рабочих.
«– Тео, почему ты грустный? – спрашивает Уала.
– Мой отец уволен. В здании установлен электронный портье.
– Электронный портье? Как это? – пугается Уала.
– Это устройство – соединение автопилота и автоответчика, связанное с системой сигнализации, которая контролирует все двери здания и напрямую подключено к полицейскому участку микрорайона».
Прежде на крупном предприятии проходил весь процесс производства продукта – от сырья до конечного товара. Например, фабрика по производству одежды сама выращивала хлопок. Это называли вертикализацией. Теперь производственная система фрагментирована. Применяется субподряд – одно предприятие заключает договор с другим, которое обеспечивает безопасность, и с третьим, которое собирает оборудование из деталей, производимых первым. Это удешевляет рабочую силу, позволяет уклоняться от требований закона относительно условий труда, распыляет профсоюзное движение и открывает возможности для неорабства.
«– Давно ты видела сеньору Марию, которая убиралась здесь в школе? – спрашивает Уала.
– Ты что, не заметила, что весь персонал по уборке сменили? – отвечает Марианна. – Для министерства образования дешевле заключить контракт с частной фирмой, чем нанимать новых государственных служащих».
Приватизаторская волна захлестывает также сердца и души. Процветают церкви и секты, приватизирующие христианскую веру, лишая ее какого-либо общественного и политического значения. С такими государственными предприятиями, как радио и телевизионные каналы, директора обращаются как с частными, да еще и жалуются, когда государство забирает эфирное время, чтобы что-то сообщить нации. При царящей безнаказанности есть и такие, кто на свой лад приватизируют закон и правосудие, линчуя подозреваемых, истребляя заключенных или уничтожая детей[4].
«Несчастна страна, которая нуждается в героях!» – восклицал Брехт. При отсутствии управления и политической воли, Бразилия сегодня может продемонстрировать свое более человеческое лицо только с помощью индивидуальных инициатив: Бетинью прилагает усилия, чтобы помочь голодающим, Ивон Мелу – беспризорникам; падре Рикарду Резенде выступает в защиту крестьянских профсоюзов; Жозе Раинья выражает чаяния безземельных. У нас приватизируется даже великодушие, у нации, чья элита считает солидарность с бедными опасным чувством, а защиту прав человека – преступлением, идущим на пользу бандитам.
С тех пор как Каин погубил своего брата Авеля, история человечества показывает, что чем больше приватизируется богатство, тем больше обобществляется нищета. Смерть по своей природе – частный опыт. Любовь, наоборот, всегда требует соучастия и причастности.
Заслуживает ли смерть модерна мессу седьмого дня? Не было бы ничего странного в том, если бы газеты опубликовали такое траурное объявление: «Господа Деррида, Лиотар, Делёз, Бодрийяр, Ваттимо и Липовецки приглашают на похороны Декарта, Локка, Канта, Гегеля и Маркса». Страны эпохи модерна оставили нам в наследство уверенность в возможностях разума, научили нас ставить человека познающего в центр размышлений и верить, что разум без догм и господ создаст свободное и справедливое общество. И мы, высокомерные избалованные дети разума эпохи модерна, комфортно жили в мире унитаристских систем, всеобщих концепций и священных идеологий, веря, что философия избавит нас от зол этого мира, чье будущее – только вопрос политической геометрии.
Бодлер и Готье в 1864 году впервые заговорили о постмодерне. Цепляясь за разум, мы не отдавали себе отчета в том, что это «несовершенство умопостижения» (Фома Аквинский). Не очень склонные к безумию и поэзии, мы не обратили внимания на романтическую критику модерна – на Байрона, Рембо, Борхарда, Ницше, Жарри. Теперь мы оглядываемся, и что же видим? Руины Берлинской стены, Статую Свободы, обладающую тем же эффектом на планете, что Горбатый Христос в христианской жизни Рио-де-Жанейро[5], разочарование в политике, скептицизм в отношении ценностей. Нами овладели неуверенность, фрагментарность сознания, синкретизм взглядов, рассеянность, разрыв и раздробленность. Событие стало важнее истории, а деталь возобладала над обоснованием.
Нет такой умозрительной доктрины, которую не поколеблет массовое убийство индейцев яномами[6], безнаказанность убийц Чико Мендеса[7] и военных полицейских, пьющих кровь, чтобы убить в себе остатки человеческого[8]. Гегель ошибался. Ни все действительное не разумно, ни все разумное – не действительно. Трудящиеся боролись за развал социализма в Восточной Европе; Франция, некогда родина всех изгнанников, закрывает свои границы для иностранцев и возобновляет ядерные испытания; демократии служат элитам, а народ никак себя не проявляет. «А что если бы избиратели выбрали Лулу?» – ужасаются те, кто знает за собой склонность к элитарности, расизму и авторитаризму[9].
Постмодерн – в моде, в эстетике и в стиле жизни. Это культура бегства от реальности. На самом деле мы недовольны инфляцией, своей дочерью, тратящей на таблетки для похудания больше, чем на книги, и нам очень неприятно знать, что в нашей стране безнаказанность сильнее закона. Мы отступаем от общественного в частное, и старые потрепанные знамена наших идеалов становятся стандартными галстуками. Уже нет утопий об ином будущем. Сегодня, как минимум, считается политически некорректным пропагандировать тезис о завоевании общества, где все бы имели равные права и возможности.
И все же нашими душами владеет меланхолия. Мы скептически улыбаемся, не выносим речей и не верим рекламе, на которую смотрим потому, что она приятна для глаз. Нас интересует разве что улучшение межличностных отношений да детский комфорт, в котором мы обитаем. Мы живем симуляциями, когда развлекаемся, забавляемся или любим. Теленовелла – это иллюзорная ложь, однако более реальная и устойчивая, чем наши собственные жизни, разъедаемые разочарованием, тогда как утрата иллюзий проникает в сердцевину наших скудных ценностей.
Теперь главенствует эфемерное, индивидуальное, субъективное и эстетское. Какой анализ предшествовал возврату России в классовое общество?[10] Нам осталось лишь улавливать фрагменты реальности (и согласиться с тем, что знание есть коллективное образование). Процесс нашего познания характеризуется предварительностью, прерывистостью и плюрализмом. Неуверенность в разуме подталкивает нас к эзотерическому, к готовому к употреблению спиритуализму, потребительскому гедонизму, при все большей майамизации[11] привычек и обычаев. Мы переживаем полное крушение или, как предсказал Хайдеггер, блуждаем по затерянным тропам.
Эта ситуация теней и тупиков оставляет пустоту, которая в общественной жизни немедленно заполняется различными силами. Не было бы перевозчиков наркотиков, если бы не было порочных с сердцами, раздираемыми отсутствием чувства, перспектив, профессиональной реализации, чей ум атрофирован отсутствием качественного образования, доступных карманных книг и художественного образования. Но когда правительство страны урезает необходимые образованию ассигнования, плохо оплачивает труд преподавателей, не требует того, чтобы телевидение – государственная структура – вносило вклад в повышение культурного уровня нации, надо ли удивляться, что поколению, лишенному наследия, неясны границы между полицейским и бандитом, коррупционером и нашедшим себя профессионалом, правом на жизнь и риском смерти?
Без возрождения этики, гражданственности, надежд на освобождение, и заботящегося об интересах большинства государства не будет иной «справедливости», кроме той, которую устанавливает для себя сильнейший.
В другие времена будущее запаздывало. Из окна дома мы наблюдали, как меняется архитектурный вид с переходом от лавки к супермаркету, как улица покрывается асфальтом. Сегодня в электронном окне монитора мы видим, как мир изменяется ежесекундно. Японские фанатики могут пускать смертельный газ на экранах наших телевизоров, банкротство английского банка в Сингапуре влияет на нашу биржу ценных бумаг, у нас дома пожарный из Оклахома-Сити держит на руках раненого террористами ребенка.
Мы вступаем в эру глобализации. Благодаря информационным сетям подросток из Сан-Паулу может влюбиться в китаянку из Пекина, притом что оба не покидают своих домов. Триллионы долларов в электронном виде передаются из одной страны в другую в спекулятивной игре, которую ведут богатые. Культурные и экономические границы рушатся, политические и моральные становятся все менее прочными. Превалирует модель наиболее сильного. Глобоколонизация. Бразилия, уже имевшая мощную военную индустрию, сегодня превращает ее в металлолом, склоняясь перед диктатом правительства Соединенных Штатов, претендующего на роль единственного мирового жандарма. В день, когда мы чествовали Тирадентиса – героя, отказавшегося отдавать наши богатства иностранной метрополии, – в Вашингтоне бразильское правительство пообещало отдавать предпочтение американским интересам в нашем Законе о патентах[12]. Оттуда же МВФ и Всемирный банк контролируют экономику Бразилии и Польши, Сенегала и Малайзии. В глобальном казино выигрывают только богатые. Остальным остаются иллюзии и бедность.
У глобализации есть свой свет и свои тени. Она разрушает автохтонные культуры, разъедает этнические и этические ценности и отдает спекуляции предпочтение перед производством. С другой стороны, она делает более уязвимым капитализм – систему, при которой капитал стоит дороже человеческой жизни. Сегодня крах Нью-Йоркской биржи, внезапно поразивший экономику США в 1929 году, сразу отозвался бы во всем мире. Под бдительным оком СМИ главы государств уже не могут делать вид, что ничего не ведают о тех или иных вопросах. В Рио им пришлось обсуждать состояние окружающей среды, в Вене – права человека, в Египте – рост населения, в Копенгагене – бедность, в Пекине – права женщин. Следовательно, обостряется противоречие между человеческими ценностями и экономическим экспансионизмом, не считающимся ни с моралью, ни с национальным суверенитетом.
Под электронной лавиной, сводящей счастье к потреблению, мы вступаем сразу в два безысходных тупика. Первый – тупик подражания. Что хорошо для США, хорошо и для Бразилии. Наша культура сводится к простому развлечению тех, кто окружает себя барахлом, выставленным в витринах shopping centers. Мы быстро проходим путь от стройности фигуры к публичной демонстрации сотовых телефонов, от дачи к импортному авто, полагая, что нам нет дела до долга перед обществом. Второй тупик – это преувеличение этнического фактора, религиозный фанатизм, крикливый шовинизм, нетерпимость, упрямо игнорирующая плюрализм и демократию не только как равенство прав и возможностей, но и как право быть другим.
Обрабатываемые низкосортными электронными СМИ, которые предлагают нам счастье в бутылочках для духов и газированной воды, радость в пачках сигарет и консервных банках, мы уже не имеем ни места для веры в Деда Мороза, ни времени для того, чтобы закалить детство. Мы теряем способность мечтать, не получая взамен ничего, кроме пустоты, растерянности, утраты себя. Химически чистое счастье кажется нам более жизненным, чем побуждающий двигаться вперед путь формирования себя как личности. Меркантилизируются отношения супружества, родства и дружбы. В этой игре, как в голливудских фильмах, тот, кто не обладает опытностью и бесстыдной жестокостью, гибнет.
Остается только надежда на тех, кто понимает, что этот потоп не может затопить все мечты, и дерзает плыть, хотя ветер и слаб, по извилистому пути солидарности с исключенными, борьбы за справедливость, выращивания этики, защиты прав человека и неустанных поисков такого мира, в котором не будет границ также и между благополучными и угнетенными. Но это уже другая история, для которой требуется много веры и некоторая доза мужества.
[1] В 2006 г. население Земли составило 6,5 млрд людей, к 2050 г. ожидается 9,2 млрд. – Примеч. А. Пятакова.
[2] «Социализмом» фрей Бетто по старинке называет строй, существовавший в СССР и других странах Восточного блока. – Примеч. А. Тарасова.
[3] Лапочка, крошка (диалектизм). – Примеч. А. Тарасова.
[4] В 80-е – начале 90-х Бразилия приобрела зловещую славу страны, где полицейские «эскадроны смерти» массами убивали беспризорных детей. – Примеч. А. Тарасова.
[5] Имеется в виду исполинская статуя Христа Спасителя, возвышающаяся над Рио-де-Жанейро на горе Корковадо (то есть Горбатой). В народном сознании считается покровителем города. – Примеч. А. Тарасова.
[6] Группа племен бразильских индейцев, общей численностью до 20 тыс. человек (в 1970 г.). В период военной диктатуры, в 70-е – начале 80-х гг. XX в. подверглись геноциду – после того, как было установлено, на территории расселения яномами находятся залежи урановых руд. – Примеч. А. Тарасова.
[7] Чико (Шику) Мендес (Франсишку Алвиз Мендес Филью; 1944–1988) – знаменитый бразильский профсоюзный и экологистский лидер, потомственный сборщик каучука, создатель Национального совета сборщиков каучука и один из основателей Партии трудящихся. Разработал концепцию сберегающего развития сельвы Амазонии (концепция недавно принята правительством Лулы). Застрелен наемными убийцами. – Примеч. А. Тарасова.
[8] В 1964 г. по плану, разработанному ЦРУ, в Бразилии был совершен военный переворот – силами не столько армии, сколько военной полиции. Из военных полицейских затем были созданы элитные спецподразделения для борьбы с оппозицией, подготовленные инструкторами ЦРУ. В ритуал посвящения в бойцы этих спецподразделений входило отрезание человеческих голов и питье человеческой крови. – Примеч. А. Тарасова.
[9] Статья была написана до избрания Лулы президентом Бразилии – в 1997 г., когда у власти был Ф.Э. Кардозу. – Примеч. А. Тарасова.
[10] Фрей Бетто имеет в виду возврат в капитализм. Разумеется, и советское общество было классовым. – Примеч. А. Тарасова.
[11] Майамизм – образ жизни и мышления «гусанос»: кубинских (а теперь и венесуэльских, эквадорских, боливийских) эмигрантов, осевших в Майами. Представляет собой сочетание идеологического фанатизма, эскапизма, криминального поведения и сознания, взаимного недоверия и «чемоданного настроения» (в ожидании дня, когда можно будет вернуться на родину в качестве «победителей»). – Примеч. А. Тарасова.
[12] То есть 21 апреля 1997 г. Тирадентис (Жоакин Жозе да Силва Шавьер; 1748–1792) – национальный герой Бразилии, борец за независимость, руководитель «заговора инконфидентов». День казни Тирадентиса отмечается как день его памяти. – Примеч. А. Тарасова.
Опубликовано в журнале «Utopias» (Испания), № 173 (1997).
Перевод с испанского Андрея Пятакова и Александра Харламенко под редакцией Александра Тарасова.
Опубликовано в журнале «Скепсис», № 5.
Фрей Бетто (Карлус Алберту Либанью Кришту) (р. 1944) – бразильский монах-доминиканец, один из ведущих представителей последней волны «теологии освобождения», «адвокат бедняков», писатель, публицист, политический деятель, редактор журнала «Америка либре». В годы военной диктатуры подвергался преследованиям, был заключен в тюрьму. Был советником президента Лулы по латиноамериканским вопросам. В 2004 году ушел в отставку из-за несогласия с экономической политикой президента.